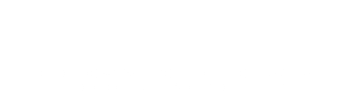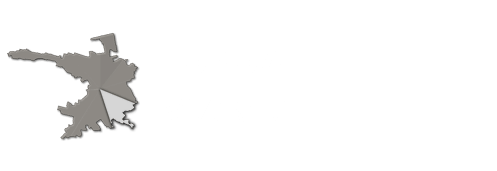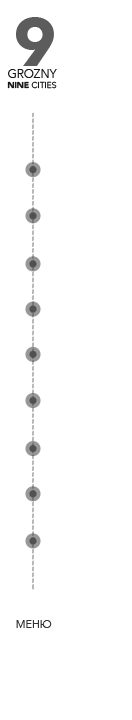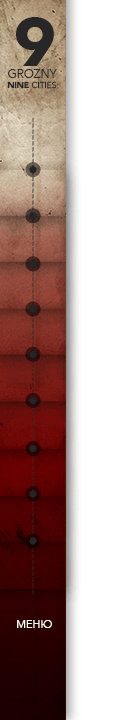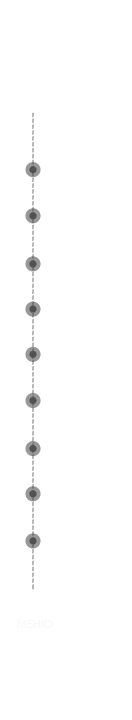Четыре молодых человека сидят с нами в кафе. Они разного возраста — младшему около 24 лет, старшему — 34. Они друзья, занимаются спортом и гонками, один из них водит машину с номерами КРА (Кадыров Рамзан Ахматович) — он большую часть вечера молчит. Спрашиваем, как воспитывают в Чечне, рассказывает старший.
— Отец, уважающий своего ребенка, не будет его бить. Иначе он сам себя не уважает. Когда ты сделал что-то не так, и отец или оба родителя узнали, они посмотрят на тебя и не скажут ни слова, и лучше бы они тебя ударили. И начинает тебя терзать совесть. Вот так все начинается без слов.
— Нам показалось, что у вас в семье к девочке меньше доверия, как будто девочек надо строже воспитывать?
— Правильно. Женщина не должна решать. Одна ошибка женщины оставляет пятно и на это поколение, и на предыдущее, и на следующее, и только через два поколения ошибка может забыться. Чтобы избежать этой одной ошибки приходится мужчине вечно-вечно беспокоиться. В исламе сказано: «Любите мать, уважайте мать, благотворите мать, но помните, что мать — тоже женщина».
В самой России идет деградация нации. Девушки с четырнадцати лет курят, пьют «Ягуары». Это вот равноправие? Что это дает? У меня, например, есть сестра, она старше меня на десять лет, и она все равно беспрекословно должна слушаться брата. Вы знаете, как у нас проходят свидания? Стоят метр или два друг от друга
— это свидание. Девушка не может стоять на этом свидании, просто предполагая, что брат или двоюродный брат, может идти по этой дороге. Он может в месяц один раз пойти, но она не будет там стоять, чтобы ни один из родственников свидания не видел. Это с детства воспитывается уважение к мужчинам. Ты просто живешь, придерживаешься тех традиций, которых придерживались твои предки.
Например, вот мой друг сидит, он младше меня на 7-8 лет. Я абсолютно не знаю, курит он или нет, употребляет спиртное или нет. Хотя в одном клубе вместе проводим уйму времени. Я не знаю, есть у него девушка или нет. Потому что я старше. Все заключается в том, что ты не можешь почитать традиции, которые не знаешь. В боевых действиях у нас прошло 15 лет. Вот этот вот промежуток времени не до культуры было, не до обычаев. Человек просто выживал диким образом. Сейчас как-то восстанавливаемся, скажем так. Нас трудно понять. Мы любим своих детей, но надо придерживаться традиций. Да, конечно, нам тоже хочется подержать своего ребенка на руках, выйти с ним в футбол поиграть, но это тут неприемлемо. Почему? Потому что потом этот же ребенок будет перечить и пойдет против отца, матери, брата. Что посеешь, то и пожнешь.
— Вы не чувствуете какое-то давление на себе, ведь если ты старший брат, то отвечаешь за большое количество людей?
— Нет, это не давление, это считается обязанностью. У нас нет ни детских домов, ни домов для престарелых. Для меня позор представить, что я человека из своего рода отдам в дом престарелых. Я даже не знаю, как это все вам объяснить. Просто как-будто бы все заложено на генном уровне. Пацан теряет отца, например, в 16 лет. Но у него есть мать, остались братья и сестры. Этот человек автоматические бросает свое детство. Он оставляет свои игры и своих друзей. Он становится главой семьи. Мое детство каким образом прошло? До войны у меня детства практически не было. Считай, нормально доучился только пять классов, потому что после пятого класса уже дудаевский режим был.
Я в 17 лет мелкие куски человеческие собирал. При нас вертолет расстрелял мины в дом, где целая семья жила. Мы собирали этих шестерых человек по кускам — похоронить. А какое после этого детство? И это практически в каждой семье. Конечно, это будет грубое сравнение. Вот взрыв в аэропорту или, извините, конечно, Беслан. Этот Беслан и взрыв в аэропорту у нас продолжались круглыми сутками.
Им понадобились и психологи, и реабилитационные центры, и какие-то поездки. А мы такое видели каждый день, круглые сутки в течение восьми лет войны. И промежуток между двумя войнами был пострашнее этих войн. В шестой класс я уже ходил за пазухой с пистолетом. Это было нормально. А чуть постарше человек, если у него нет ни пистолета, ни автомата, или у него машина с документами, он практически не считался мужиком. Как он смеет с документами? Детство у нас началось лет десять назад. Вот, например, я из детства до сих пор выйти не могу. До сих пор в игрушки играю и считаю, что это нормально. За небольшой промежуток со времени войны приходится меняться настолько сильно, что сегодня ты должен вести себя совсем по-другому, как подобает что ли.
— А вы все смогли это сами пережить?
— А куда ты денешься? Некуда. В 2000-ом году я в Грозном жил. Мог заскочить в любую квартиру, где есть свет, и укрыться у них, потому что если они выгонят на улицу, все, ты уже считай, что пропал. И народ сплотился в трудную войну, как и любой народ. И сейчас потихоньку отходим от всего этого.
— У тебя получается отходить?
— У меня получается. У меня прекрасно получается, хотя я, в принципе, жил в гуще событий... А так чтобы сказать, что меня война испортила… Считаю, что не имею на это право. Потому что я абсолютно здоров, у меня психика здоровая, голова соображает. Единственное
— знаний нет, которые я мог получить в школе. Нужно контролировать последствия, то, что осталось у тебя в душе. Например, в первую войну я подростком был. Я был готов грызть горло любому русскому из-за политики, из-за того, что я видел каждый день. Но после войны наше же правительство автоматически меня поставило на место. В конце 2003, в 2004 году на соревнования мы уезжали в разные регионы России. И к нам относились, знаешь, как-то странно, да. Был какой-то страх, недоверие, и ни капли жалости к нам. В Норд-Осте те люди, которые там были, до сих пор являются пострадавшими. А почему к нам так относятся? Меня всегда интересовал этот вопрос. Даже когда народ все рассказывал, приезжали корреспонденты, показывали им, как в одной деревне всех убили, кроме одного мальчика, которого один русский солдат пожалел
— выстрелил в воздух, оставил живого. В этой же деревне другого ребенка сожгли в колыбели
— той, в которой качали. Сожгли ребенка. За что? Почему к нам ни капли жалости нет? Почему до сих пор к нам так относятся: «Чеченцы!» Что мы, чеченцы? Что?
— У меня есть много сразу ответов. Когда тебе все время крутили ролики о том, как чеченцы отрезают русским головы, никогда в жизни…
— Вот-вот. Подождите. Как это началось? Самашки, село, практически полностью перерезано русскими, остальную половину изнасиловали. И все это перезаписано на кассеты, скопировано и продавалось во всех киосках и базарах в городе. После этого и началось. Это была грань, понимаете? Когда показывали, как перед отцом насилуют дочь, когда беременную женщину за волосы держат, ей разрезают брюхо, оттуда вываливается ребенок, заливают солярку, и она висит как свечка, а спецназ сидит и кушает. Все это показывалось публично, это распространялось специально, чтобы резали этих же солдат. А скажите, что это не так? Сначала нам показали, что сделали в Самашках. Это чисто карательная операция была, там никаких боевиков не было, там единственная ракетная часть была. Или Буданов. За изнасилование и убийство ему дали 8 лет, а подозреваемому в убийстве пытаются дать 15.
Например, какой-то российский офицер, зять какого-то министра, у него «чеченский синдром». А что значит чеченский синдром? Он не видит кровь, которую он проливал что ли? Или российского федерального солдатского синдрома нет что ли? Конечно, есть. У каждого человека синдром. Хотя что... за департацию еще не извинились. А ведь мы воевали против фашизма вместе... Знаете, в чем проблема России? Первая проблема — это неправильная политика по отношению к простому народу. Потому в России, если у тебя деньги есть, тебе можно все. А если у тебя денег нет, то тебе нельзя ничего.